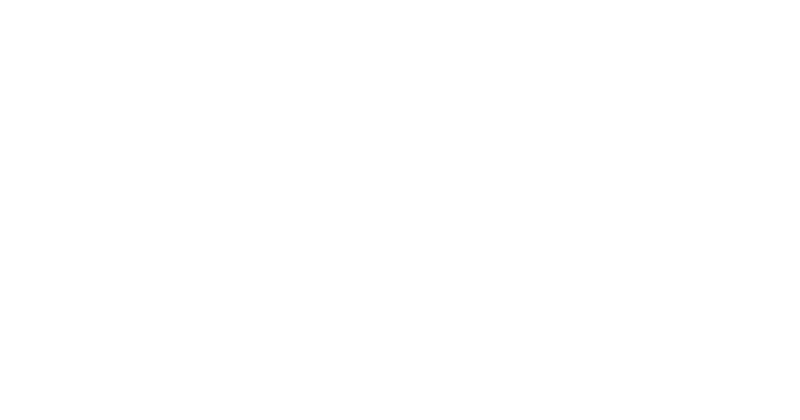
Театр на Таганке в 70-х годах
23 апреля 1964 года в Московском театре драмы и комедии сыграли спектакль «Добрый человек из Сезуана». Только что театр возглавил режиссер Юрий Любимов: он снял старый репертуар и принял в труппу своих студентов из Щукинского училища. Вскоре появилось новое название — Театр на Таганке. Это был первый за долгие годы советский театр, который работал не в реалистической традиции, а в условной, игровой манере — без исторических костюмов и бытовых декораций. Любимов ставил не только пьесы, но и прозу, и поэзию, а многие спектакли основывались на разных литературных источниках. Советская цензура с трудом терпела очень популярную и очень необычную площадку, а коллективу приходилось отстаивать перед чиновниками буквально каждый спектакль. Антон Хитров расспросил филолога, соавтора книги «Таганка. Личное дело одного театра» Елену Леенсон, как жил театр в условиях жесткого контроля.
Как из студенческого хита родился театр
— Как вы стали заниматься Таганкой?
— Началось все с работы над буклетом к 40-летию театра, который мы готовили вместе с [филологом, педагогом, соавтором книги «Таганка. Личное дело одного театра»] Евгенией Абелюк. Мы хотели добавить туда каких-то ярких документов, и нас отвели в архив Театра на Таганке. Никакого архивиста у них на тот момент не было, документы хранились в полном беспорядке.
Выяснилось, что там множество документов, о которых никто не знает. В первую очередь — протоколы заседаний художественного совета театра и «приемки» спектаклей. Нам было жалко бросать эти кипы бумаг. Обидно уходить, когда тебя уже туда впустили. Мы договорились с Ириной Дмитриевной Прохоровой сделать книжку для «Нового литературного обозрения» по этим документам и работали над ней три года.
Это далеко не все документы по истории этого театра. Полагаю, архив делили вместе со зданием — и многое оказалось у «Содружества актеров Таганки». Но все равно осталось много интересного.
Юрий Петрович [Любимов] был как-то к нам расположен, ему это все было интересно. Он взялся комментировать эти материалы, он читал нашу рукопись, он что-то вставлял. Мы помещали его слова на полях.
Здание современной «Таганки» построили в 1912 году для кинотеатра «Вулкан»
— Можно ли сказать, что история этого театра началась с акта цензуры? Я говорю о спектакле «Добрый человек из Сезуана», его ведь пытались жестко редактировать в Щукинском училище.
— Нет, наверное, неправильно. Театр образовался в 1964 году. А в 1963-м Любимов поставил с актерами-выпускниками в училище спектакль по Бертольту Брехту. Ректор училища Щукинского, [актер и режиссер Борис] Захава, тогда действительно испугался. Во-первых, его смущали зонги, в которых можно было заподозрить критику советской власти. [Подозрения были небезосновательны:] зонги ведь для того и нужны, чтобы осовременивать происходящее в спектакле. А во-вторых, это было очень неожиданно с художественной точки зрения.
Условный театр никто не знал, в советские годы был совсем другой театр — и сам Любимов участвовал в совершенно другом театре. Брехт — вроде как «наш», левак. Но его стилистика была, мягко говоря, далека от принятой в то время эстетики Станиславского — перевранного, кстати, Станиславского, как считал Любимов.
Думаю, Захаву испугало и то, как выстрелил спектакль. На показы ломились еще [когда его показывали] в «Щуке», после зонгов кричали — «Повторить!». Но спектакль все-таки удалось сохранить [в том виде, в котором он был задуман Любимовым], поэтому нельзя сказать, что он стал жертвой цензуры. Когда он вышел в Театре на Таганке, остались и зонги, и вся стилистика.
Собственно, грандиозный успех этого выпускного спектакля как раз и привел к открытию нового театра. Вернее, не совсем к открытию, потому что Любимову передали убыточный Театр драмы и комедии [на базе которого режиссер создал Таганку]. Кстати, многие артисты из старой труппы остались — например, Вениамин Смехов, который служил там еще до Любимова.
Получается, в тот момент, на излете оттепели, это еще было возможно. Надо понимать, что Любимов тогда был известным артистом. А еще, насколько я знаю, ему помогли. Вышла статья [писателя] Константина Симонова в поддержку «Доброго человека». Говорят, Любимова поддержала его жена [Людмила] Целиковская, которая была очень известной советской актрисой, примой.
А еще, как ни странно, помогли физики. Любимов дружил с научно-технической интеллигенцией из института в Дубне. Они даже думали устроить театр в Дубне, писали коллективные письма. Но в итоге Любимова назначили в Театр драмы и комедии.
Как работала театральная цензура в СССР
— Давайте поговорим о том, как функционировала советская цензура. Для начала, какой у нее был статус? В Российской империи цензура была легальным институтом. В современной России она формально запрещена, но в действительности существует. А что в СССР?
— Я так понимаю, в советское время был промежуточный вариант. Я сама задавалась этим вопросом, когда мы писали книжку — но до конца так и не поняла. Я говорила с историком из «Мемориала», и он тоже затруднился ответить на этот вопрос. Но я расскажу, как я это понимаю.
Сразу после революции вышел Декрет о печати — вполне цензурный документ. А в 1922 году был образован Главлит [Главное управление по делам литературы и издательств]. На книжки ставили печать — «Залитовано», что означало — разрешено. То есть наличия цензуры никто не скрывал. В то же время, как говорит мой собеседник из «Мемориала», в печати не разрешено было обсуждать цензуру. То есть лицемерие было.
Порядок цензуры для спектаклей был сложнее, чем для печатной продукции. Естественно, театр мог брать только «залитованные» тексты. Тем не менее, он должен был согласовать репертуар на будущий год с управлением культуры исполкома Моссовета. Иногда названия спускали сверху, навязывали — как, например, «Что делать?» Чернышевского — но даже к этим спектаклям цензура все равно ужасно придиралась.
Затем согласовывался сценарий каждого спектакля. Сценарий ведь не равен пьесе, особенно в случае с Любимовым, который ставил не только пьесы и мог соединять несколько литературных источников в одном спектакле. Текст сценария возвращался с замечаниями — и хорошо еще, если конкретными. Часто они были расплывчатыми: цензор требовал, условно говоря, усилить интонацию гражданственности. Согласование сценария могло длиться месяцами.
Только после этого начинались репетиции. Когда спектакль был готов, устраивали прогоны для комиссии исполкома Моссовета — так называемые «приемки». Конечно, если спектакль не собирались принимать, его не принимали. Но поскольку нужно было создать иллюзию демократической процедуры, после «приемок» в любом случае проводили длиннющие обсуждения. Это раздражало [команду театра], иногда они требовали: хватит разговоров, если вы не выпускаете спектакль — так и скажите.
Почему театр приковывал такое внимание цензоров? Считалось, что спектакль воздействует на зрителя сильнее, чем, скажем, повесть. Театр может намекнуть, что речь идет о сегодняшнем дне, а не о вчерашнем.
Вот, например, ставит Любимов Гоголя. Это был спектакль «Ревизская сказка» с целым набором из гоголевских текстов. Казалось бы, Гоголь не запрещен. Но у Любимова в одной сцене была метафора сумасшедшего дома. В этот момент актеры обращались в зал и освещали зрителей фонариками, подразумевая, что сегодняшняя Россия — сумасшедший дом. Инспекторы, принимавшие спектакль, возмутились. Вообще, разрушение «четвертой стены» действовало на них как красная тряпка.
Потом, театр — это, что называется, прямой эфир. Актер может что-то добавить от себя прямо на сцене. Поэтому театр считался опасным.
— И как, добавляли?
— По-моему, да. Мы говорили с фанатами театра, которые видели все спектакли по много раз и знали их наизусть. Там была «театральная мафия», которая держала билеты — это отдельный зажигательный сюжет. Так вот, они говорят, что Любимов мог добавить в спектакль актуальные репризы.
Что такое «театральная мафия»
— А можно пару слов о «театральной мафии»?
— В городских театральных кассах невозможно было купить билеты на Таганку — разве что при большом везении. Приходилось покупать их в кассе театра. Зрители знали: такого-то числа такого-то месяца касса начинает продавать билеты на такой-то показ. Выстраивалась огромная очередь за билетами. Люди дежурили ночами, спали в подъездах соседних домов.
Буквально в первые годы существования театра возникли предприимчивые люди, очень молодые — старшеклассники, студенты, — которые решили сделать структуру, чтобы не ночевать в очереди каждую неделю. Грубо говоря, сегодня я подежурю, выкуплю билеты и с тобой поделюсь — а в следующий раз подежуришь уже ты. Они всегда выкупали первые 10-11 пар билетов.
Дежурство длилось шесть часов, потом дежурные сменялись. Ночью дежурили всегда вдвоем. Бывали потасовки с другими людьми в очереди, которым эта система не нравилась. Те, кто «держал очередь», выражаясь их сленгом, утверждают, что их структура была первой в своем роде. Но такие структуры возникали вокруг любого мало-мальски популярного московского театра.
— Они не перепродавали билеты?
— Нет, ни в коем случае. У них были жесткие правила, продавать билеты было запрещено. Если кто-то попадался, его сразу выкидывали из структуры. Они ходили сами, а иногда пользовались билетами как валютой — скажем, «платили» врачам.
Еще, если случался «лом» — потасовка в очереди — запрещалось распускать руки. Тянуть за рукав, порвать куртку — можно, причинять боль — нельзя. У каждой «мафии» был договор с каким-нибудь институтом, чтобы студенты в случае чего пришли на помощь. Сейчас они рассказывают об этом как о военных действиях.
Была «десятка» — привилегированная группа из десяти человек, которая управляла структурой: кого «ломаем», с кем дружим. Участники структуры носили специальные значки — умудрялись их где-то напечатать, что тогда было трудно. У рядовых членов и привилегированных значки различались.
Когда Таганке строили новое здание, некоторые члены структуры работали на стройке — это помогало им попадать на спектакли. Что-нибудь потаскаешь — а потом останешься в зале. Они действительно знали все спектакли наизусть — может быть, не хуже артистов. В основном это были люди очень образованные.
Чего стоило выпустить авангардный спектакль в СССР
— Вернемся к цензуре. Что за люди были цензоры? Они в состоянии были понять замысел режиссера?
— Многие цензоры были по специальности театроведами, но это им не всегда помогало. Это была зашоренная публика. У них вызывал неприятие непривычный театр, условный, поэтический, который комбинирует разные тексты и манеры игры в одном спектакле.
У [Вениамина] Смехова в одной из книг есть такое замечание. Одно время он думал: когда Любимов рассказывает, что ему доводится переносить в кабинетах у цензоров — он преувеличивает. А когда Смехов сам стал режиссером и начал разговаривать с чиновниками, он понял, что Любимов даже преуменьшал.
Цензоры мнили себя знатоками. Они не только отслеживали нежелательные параллели с сегодняшним днем — они делали замечания режиссерского плана. Например, после показа «Гамлета» один сотрудник исполкома распинал этот спектакль. У него в голове была определенная трактовка «Гамлета», которую, как он считал, и стоило воспроизводить на сцене.
У Любимова, когда Гамлет произносит ключевые слова — «Быть или не быть», «Распалась связь времен», — ему вторят король и Полоний. Цензор говорит: такого быть не должно, ведь это Гамлет — бунтарь, а этих все устраивает. Или вот актеры перебрасываются черепами — это неуместно. Каждый мнил себя режиссером покруче Любимова.
Каждый спектакль спотыкался о десятки профанских претензий. Некоторые претензии были ожидаемы: например, к осовремениванию, к общению с публикой. Но «режиссерские» правки раздражали сильнее всего.
Любимов рассказывал, как начальник управления культуры [инженер и шахматист Борис] Родионов пригласил его к себе, налил чай, сказал: выключаем телефоны (то есть прослушку), давай говорить два часа откровенно. Ты не боишься? Любимов отвечает: а вы не боитесь? Родионов его спрашивает: скажи честно, за все годы моего руководства я тебе чем-нибудь помог?
Любимов ожидаемо говорит: нет. Тот, видимо, поразился. А Любимов ему: вот вы играете в шахматы лучше, чем я — но ведь хуже, чем [чемпион мира Александр] Алехин. Если бы вы с Алехиным сели играть в шахматы, он бы вас обыграл. Вы же не будете ему рассказывать, как партию вести? Так вот, как вы думаете, кто лучше разбирается в искусстве, вы или я? Тут Родионов вроде как немножко съехал: я не очень разбираюсь, мне умные люди подсказывают. Уж не знаю, насколько Любимов приукрашивал. Но очевидно, что цензоры высказывали свои замечания с уверенностью недалеких людей, верящих в свое правое дело.
А еще они часто дули на воду, боясь пропустить что-то такое, за что им башку снесут. В спектакле «Берегите ваши лица» по Андрею Вознесенскому была фраза-палиндром: а Луна канула. Цензоры решили, что театр издевается над советскими неуспехами в деле освоения Луны — незадолго до этого американцы как раз высадились на Луну.
Или, например, «Борис Годунов», который в итоге не пропустили. Во время обсуждения цензоры все время возвращались к тельняшке [Валерия] Золотухина, который играл самозванца. Артисты в этом спектакле носили костюмы разных времен и социальных групп, кто в дорогом наряде, кто в простецком. В театре действительно не понимали, что не так с тельняшкой. И только потом догадались: за месяц до показа спектакля генсеком стал [Юрий] Андропов. А он, оказывается, служил во флоте. Цензоры решили, что театр намекает, будто Андропов — самозванец. Их не волновало, что репетиции начались задолго до того, как Андропов занял свой пост.
Проблема была и в том, что многое в любимовских спектаклях было рассчитано на реакцию зала. А какая может быть реакция зала, когда там сидит вот эта публика с карандашиками в руках — и больше никого? Артисты играли в пустоту, это было тяжело. Любимов говорил: надо побыстрее выпускать. Он думал об актерах, боялся, что те растеряют свою творческую энергию.
Интересно даже не то, что за замечания делали цензоры, а то, как они их делали. Например, они говорили «мы», «наше мнение». Видимо, они вырабатывали мнение еще до прихода в театр — ведь обсуждение не всегда устраивали сразу после спектакля, иногда проходило какое-то время. Решение о выпуске спектакля не рождалось во время дискуссии, это все была показуха.
Любимов рассказывал, что поначалу цензоры ходили по пять человек. Потом стали ходить по 20 и больше. Видимо, многие в ведомстве хотели посмотреть спектакль. На «приемках» вообще присутствовало много людей. Если цензоры сами не были театроведами и филологами, они приглашали специалистов, чье мнение должно было сыграть им на руку.
Театр в ответ тоже приглашал своих экспертов. Например, [шекспироведа Александра] Аникста, если речь шла о Шекспире, или специалиста по Гоголю Юрия Манна, когда ставили Гоголя. Если цензоры продвигали правильную, советскую интерпретацию, скажем, «Гамлета», то Аникст им на это говорил, что, хотя у него как у шекспироведа тоже есть свое представление о «Гамлете», ему не интересно видеть эту трактовку в театре — ведь она ему и так известна. В театр он идет за трактовкой Любимова.
Ученик Александра Аникста, шекспировед Алексей Бартошевич, рассказывал нам о режиссере Питере Бруке, который повлиял в том числе на ЛюбимоваУмер Питер Брук — один из величайших театральных режиссеров Театровед Алексей Бартошевич вспоминает его первые гастроли в СССР, которые потрясли публику
— Театр принимал правки цензоров?
— Далеко не все. Где-то Любимов был вынужден идти навстречу. Например, в спектакле [по стихам поэтов-фронтовиков] «Павшие и живые» еврейские фамилии персонажей пришлось заменить на украинские. Если совсем ничего не поменять, спектакль могли просто не выпустить. Но за многие решения боролись — и их удавалось отстоять.
— А были случаи, когда труппа сопротивлялась замыслу режиссера, понимая, что это наверняка запретят?
— Нет, мне о таком неизвестно. У них был другой настрой. Самоцензуры в театре не было. И потом, это был режиссерский театр, где решения все-таки принимал режиссер.
Кстати, это не значит, что артисты не участвовали в постановке спектакля, они еще как участвовали. Есть подробные записи репетиций «Бориса Годунова»: Любимов просит артистов самих подумать, с какими фразами они хотят обращаться к залу. В каком-то смысле актеры были соавторами концепции Любимова. А ведущие артисты — [Леонид] Филатов, [Валерий] Золотухин, [Вениамин] Смехов — тоже могли присутствовать на дискуссиях с чиновниками от культуры.
Между прочим, есть и документы тех обсуждений, которые расширенный худсовет проводил без цензоров — из чисто художественных интересов. Говорили о том, где длинноты, что убрать. Это были честные разговоры, которые показывали, что устоявшееся мнение об авторитарности Любимова не совсем верно. Он очень прислушивался к худсовету и был заинтересован в таких обсуждениях.
— Много ли было запрещенных спектаклей?
— Подавляющее число спектаклей в итоге удалось протащить через цензуру в том или ином виде. Исключений немного — «Живой», «Борис Годунов», «Владимир Высоцкий» и «Хроники» по Шекспиру, который даже не дали начать репетировать (впоследствии, в 2000 году, Любимов их все же поставил).
Некоторые спектакли запрещали уже после премьеры — например, «Берегите ваши лица» [по Вознесенскому]. Это был довольно редкий случай для советского театра: выпустить спектакль было трудно, и если он дошел до премьеры, обычно это значило, что с ним все нормально.
К 1980-му ситуация накалилась. Сам Любимов считал, что дело подпортили похороны Высоцкого, совпавшие с Олимпиадой [и собравшие множество людей]. Когда поливальные машины стали смывать цветы, толпа начала скандировать «Фашисты!». Этот крик, как считал Любимов, ему не простили. Потом, он к этому моменту уже стал выезжать за границу и ставить там спектакли. В Москве ему вообще ничего не давали выпускать. Запретили спектакль «Владимир Высоцкий», который стали готовить сразу после смерти поэта, запретили «Бориса Годунова».
Мне кажется, и сам Любимов [к началу 80-х] стал менее сговорчивым. Он начал позволять себе резкие высказывания. Например, на обсуждении спектакля о Высоцком он заявил чиновникам: «Вы люди некомпетентные, чтобы судить о великом русском поэте». Этот запрещенный спектакль все же несколько раз показали, назвав его вечером памяти. Любимова пропесочивали, а он объяснял: это показы для своих. Как я понимаю, это тогда был очень смелый шаг.
— В общем, ему стало противно от компромиссов.
— Думаю, это слишком мягко сказано. Просто ставки повысились. Он ведь и раньше не то чтобы шел на компромиссы. Может быть, где-то по мелочам — да. Но существенные вещи, которые он считал нужным не менять, он никогда не менял.
«Борис Годунов» в таком виде, как его поставил Любимов, в принципе не мог пройти, ни с компромиссами, ни без. Да и вообще, основная тема этой пьесы, прямо скажем, политически неблагонадежная. «Владимир Высоцкий» тоже не мог выйти никак, потому что сам Высоцкий был под опалой.
Другой выдающийся режиссер, Анатолий Васильев, посвятил Юрию Любимову свой спектакль «Старик и море»Анатолий Васильев поставил в России первый спектакль за 11 лет. Почему это важно? В Москве покажут премьеру «Старика и моря» по Хэмингуэю
— Как вам кажется, почему Таганку вообще терпели?
— Что значит терпели? Любимова в конце концов лишили гражданства — после того, как он дал интервью Times и сказал все, что думает о советской цензуре. Почему его не уволили раньше — трудно сказать. Не было единого центра, который решал, что запретить, а что разрешить. Была система, которая кое-как влачила существование. По правилам этой системы спектакли нужно было долго и мучительно пропускать — вот она и пропускала. А закрывать — зачем?
Но вот, например, в годы [министра культуры СССР Екатерины] Фурцевой такая угроза возникла. В 1968-м Любимов пригласил на репетицию спектакля «Живой» Жана Вилара, который тогда был в Москве. Вилар пришел с корреспондентом французской коммунистической газеты LʼHumanité. Поскольку пускать иностранных журналистов на репетиции советского театра было нельзя (спектакль же еще не был принят), Любимова решили снять с должности. Тогда он написал письмо Брежневу. Его актеры тоже отправили Брежневу телеграммы — писали, что театр воспитывает их в коммунистическом духе. [Жена Любимова] Людмила Целиковская тоже к кому-то обращалась. В итоге режиссер остался на своей должности.
С самим «Живым» тоже были трудности. Это был спектакль по повести Бориса Можаева, опубликованной в «Новом мире» в 1966 году. Любимов почти сразу взялся репетировать спектакль. Но в 1968-м «Живого» не пропустили — и режиссер восстановил его только после возвращения, в 1989-м.
Это история о том, что люди жили в колхозах как рабы. Главному герою, Федору Кузькину, нечем кормить детей, а выйти из колхоза и сам зарабатывать он не может. Спектакль показывали Фурцевой, есть стенограммы обсуждения с ее участием. Она возмущалась, кричала: «В этом театре вообще есть советская власть? Весь театр разгонять надо!».
Была гениальная история с этим «Живым». Пригнали директоров колхозов, чтобы они посмотрели спектакль и поучаствовали в обсуждении. В театре это обсуждение назвали третьим актом «Живого» — эти директора как будто сошли со сцены и стали рассказывать Любимову, что такого быть не могло. Там прозвучала такая фраза: «Спектакль не отражает действительность, которую хотелось бы видеть». Ее потом часто вспоминали — она же многое говорит о том, чего хотели от искусства в советское время.
Юрий Любимов и Борис Можаев после спектакля «Живой»
Меня поражает не то, что театр не закрыли, а то, что Любимов вообще работал, что он довольно долго не опускал руки. Представляете, сколько сил нужно было, чтобы общаться с этими, в общем-то, малообразованными, мало что понимающими в новаторском искусстве людьми, будучи зависимыми от них? Это удивительно, что в такого рода системах искусство не умирает.
Была ли Таганка левым театром
— Левые взгляды Любимова и его соратников, которые декларировались со сцены, были искренними? То есть они не принимали конкретно советский строй, но социализм как идею поддерживали?
— Мне кажется, в первые десятилетия работы театра Любимову важны были не идеи, а эксперименты с формой. Спектакль о революции «10 дней, которые потрясли мир» был создан в очень непривычной стилистике, с буффонадой и кинематографическим монтажом. А левая идея не интересовала его, по-моему, совершенно.
В поздние годы Любимов точно не был социалистом. Он был, скорее, либеральных взглядов, ему близок был капитализм. Любил рассказывать о своем деде, которого раскулачили в Ярославле: он много работал и верил, что любая работа обязательно должна быть оплачена. Как я понимаю, конфликт с артистами театра у него случился именно потому, что он потребовал, чтобы они подписали контракты, «как в прогрессивной Европе». Он хотел, чтобы его театр работал эффективно, по мировым стандартам.
— Получается, он видел себя главой корпорации?
— Он видел себя все-таки главой театра. Но западная система — когда артисты работают по контракту, — нравилась ему больше, чем советская, где они просто числятся в штате, и приходится придумывать им роли. А артисты решили, что это предательство.
Что касается левой идеи — понимаете, этот театр все-таки существовал в советской парадигме. И Любимов, и члены расширенного худсовета — как композитор Шнитке или писатель Можаев — были в каком-то смысле советскими людьми. После развенчания культа личности прогрессивная линия советской интеллигенции заключалась в том, чтобы вернуться к настоящему ленинизму. Вот и на Таганке к столетию Ленина хотели сделать спектакль «На все вопросы отвечает Ленин».
Вот еще что важно. Фанаты, которые тусовались около театра — некоторые, кстати, находили там мужей, жен — теперь говорят, что Любимов раскрыл им глаза, научил их думать. Что Таганка стала для них глотком свободы. То, что делал театр — это было свободомыслие, вольнодумство, это шло вразрез с банальщиной. Любимов всегда старался разрушать шаблоны, особенно когда работал с классиками вроде Пушкина.
Спектакль Юрия Любимова «А зори здесь тихие»
«Гамлет»
— Получается, если Таганка и была протестным театром, она протестовала не столько против советской власти, сколько против нормативности как таковой?
— Я вообще не уверена, что там уж так важен был протест. Любимов просто хотел ставить спектакли — так, как считал нужным. Ему надоели все эти пыльные задники, нарисованные глаза, перевранный Станиславский. Он хотел искать как художник, он хотел реализовать себя как режиссер нового театра. А протест — это то, что получилось по дороге. Трудно сказать, что это был именно политический театр. Просто, когда стараешься говорить честно, получается и про политику тоже.
О спектакле Кирилла Серебренникова с отсылками к театру ЛюбимоваКоманда «Гоголь-центра» выложила в сеть «Мертвые души» — важнейший спектакль самого свободного театра 2010-х Кирилл Серебренников перенес на сцену одно из самых гибких произведений русской литературы — и рассказал в нем о путинской России
— Когда во времена перестройки Любимов вернулся из эмиграции, театр стал восстанавливать спектакли, когда-то запрещенные. Это имело смысл?
— Кстати, многие старые фанаты перестали ходить в театр после его возвращения. Наверное, отталкивал скандал с [Николаем] Губенко и с другими артистами. Кроме того, общество сильно изменилось. Началась перестройка, и театр перестал восприниматься так, как раньше.
Хотя я-то познакомилась с театром как раз уже после возвращения Любимова. О принципах его режиссуры вполне можно было судить по новым постановкам. Он продолжал поиски. Может, он и повторялся, были спектакли менее удачные, более удачные, но в целом мне не кажется, что он потерял себя и не был интересен как режиссер.
— Он предполагал уже в постсоветское время, что государство снова захочет контролировать культуру?
— В личном общении он говорил: вы что, думаете, сейчас не пишется? Все пишется. В смысле — прослушивается. Идеалистом он не был. Вряд ли он предполагал, насколько сильной станет цензура, но в целом смотрел на страну с открытыми глазами.
Как власть контролирует театр сегодня«Медуза» получила доступ к почте сотрудника ФСБ, который уже 10 лет борется с независимой российской культурой: от Серебренникова до Беркович И вот что мы из нее узнали
Беседовал Антон Хитров
